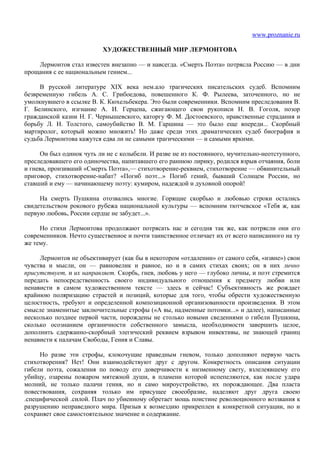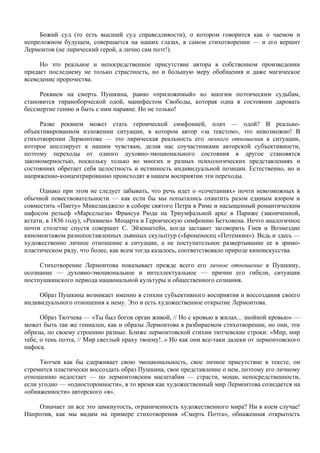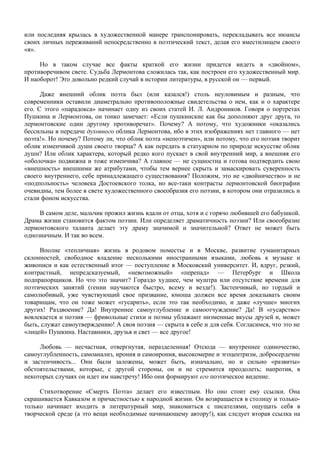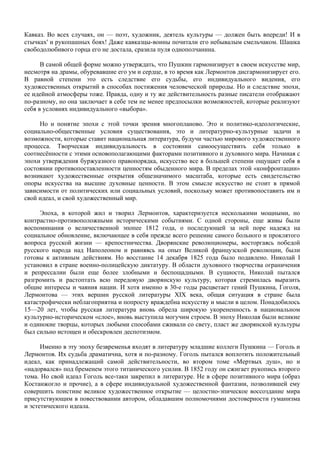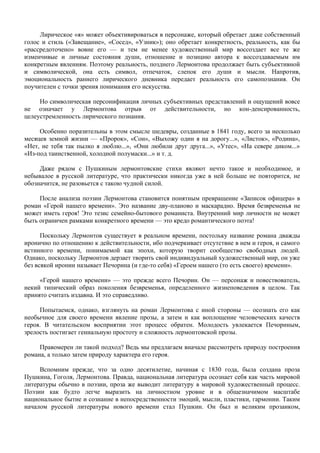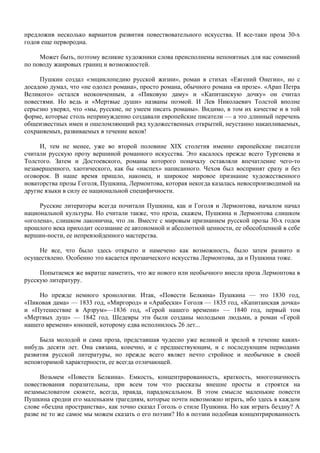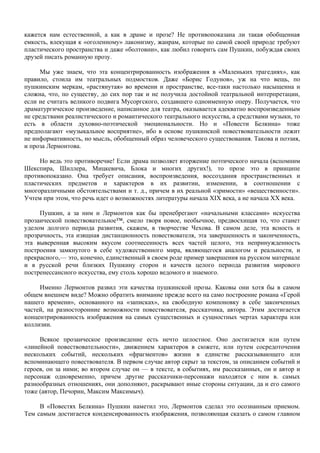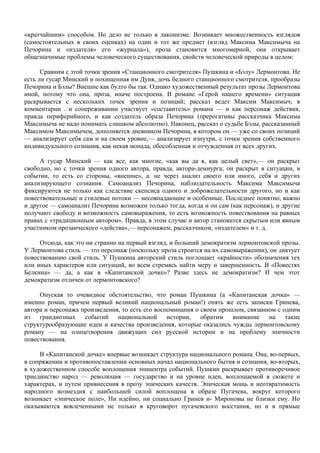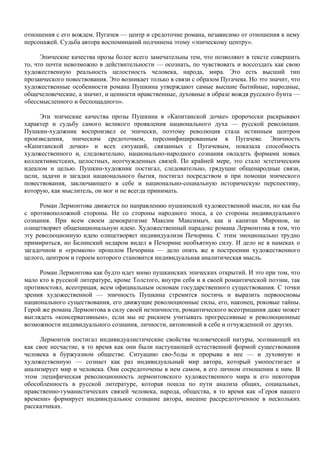Документ анализирует художественный мир Михаила Лермонтова, подчеркивая уникальность его поэзии и личных переживаний. Лермонтов, испытывая постоянное одиночество, создал произведение 'Смерть поэта', которое становится не только данью памяти Пушкину, но и манифестом свободы и независимости. Его судьба и искусство взаимосвязаны, отражая глубокие личные драмы и предощущение собственной трагической гибели.