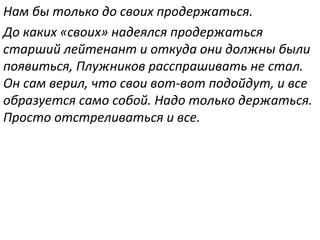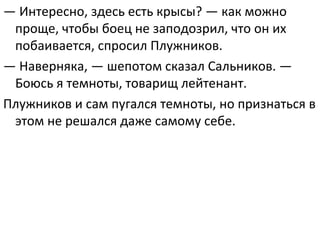Документ описывает сцену ужасного сражения, где мирные объекты горят, а люди борются за выживание. Главный герой, старший лейтенант плужников, находится в состоянии страха и паники, разделяя трагические моменты с солдатами вокруг него, которые потеряли веру в спасение. В тексте звучит величественная песня, символизирующая надежду на спасение, несмотря на неизбежные потери и страдания.